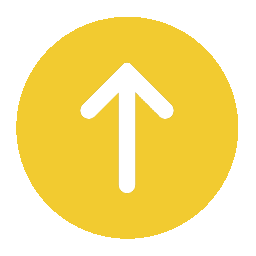Публикации
Направления дальнейшего совершенствования конкурентного законодательства РК.
Доклад Бикебаева Айдына Жолшиевича, Председателя Совета Партнеров юридической фирмы «Саят Жолши и Партнеры» на научно-практической конференции на тему: «Закон Республики Казахстан „О конкуренции“: первые итоги и перспективы развития».
Уважаемые дамы и господа,
Антимонопольное регулирование в РК находится на этапе подъема. Это в первую очередь связано с проведением в конце 2007 года институциональной реформы по приданию антимонопольному органу статуса самостоятельного агентства, а также с принятием в конце 2008 года нового закона о конкуренции, который является более прогрессивным по сравнению с прежним законом. Вместе с тем, необходимо дальнейшее совершенствование конкурентного законодательства для того, чтобы повысить качество антимонопольного регулирования.
По моему мнению, можно выделить следующие основные направления дальнейшего совершенствования конкурентного законодательства:
1. Совершенствование конкурентного законодательства необходимо начать
с четкого определения целей конкурентной политики. Очевидно, необходимо
признать, что главной целью конкурентного законодательства является обеспечение
(развитие и защита) свободной конкуренции на рынке. Достижение этой
цели влечет множество положительных экономических, социальных
и политических эффектов.
Вместе с тем, самостоятельной целью конкурентного законодательства наравне
с защитой конкуренции необходимо признать защиту интересов потребителей,
поскольку классическое нарушение антимонопольного законодательства в виде
установления монопольно высоких цен, направлено не на защиту
конкуренции, а исключительно на защиту краткосрочных интересов
потребителей. Более того, преследование за высокие цены в большинстве
случаев причиняет вред конкуренции (в силу снижения привлекательности
рынка за счет снижения прибылей).
Единственным критерием при определении границ защиты интересов потребителей
в конкурентном праве должна быть сама конкуренция. При наличии
на рынке эффективной конкуренции интересы потребителей должны считаться
защищенными, и в конкурентном праве она не должна рассматриваться
в качестве его непосредственной цели. В отсутствии же
эффективной конкуренции, а именно на рынках, где присутствует
доминирующий продавец, интересы потребителей должны стать непосредственной
целью конкурентного права, и последний должен обеспечить такой уровень
удовлетворенности интересов потребителей, который был бы при отсутствии
барьеров входа на рынок и, соответственно, наличии на рынке
эффективной конкуренции.
2. Под конкуренцией в законе понимается состязательность субъектов
рынка, при которой их самостоятельные действия эффективно ограничивают
возможность каждого из них односторонне воздействовать на общие
условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке. Очевидно, что
данное определение является определением совершенной конкуренции, поскольку
возможности конкурентов по всем параметрам эффективно ограничивать
действия друг друга, наверное, возможны лишь в условиях чистой
конкуренции. Как результат, поведение на рынках с несовершенной
конкуренцией, где действия субъектов рынка неэффективно ограничивают возможности
конкурентов, можно признать априори неправомерным.
Законодательное определение конкуренции должно соотноситься со всеми
существующими моделями конкурентных товарных рынков (совершенной конкуренции,
монополистической конкуренции и олигополистической конкуренции),
а также учитывать все основные концепции конкуренции, т. е.
не ограничиваться акцентированием только лишь на одной из граней
этого явления. Государство не может объявить законным лишь рынок
совершенной конкуренции, тем более, что в современном мире все основные
товарные рынки приобрели олигополистическую структуру, и важной
особенностью конкурентной политики, проводимой ведущими странами мира, является
лояльное отношение к олигополиям.
На основании вышеизложенного необходимо разработать новое законодательное
определение конкуренции («работающей конкуренции»), которое является приемлемым
для всех типов товарных рынков, а также учитывает выводы различных школ.
(Для обсуждения предлагается следующее определение: «конкуренция — это процесс
соперничества между субъектами рынка, возникающий при производстве и/или
распределении товаров, работ и услуг, интенсивность которого прямо
пропорциональна высоте оцениваемых на предмет обоснованности
и разумности барьеров для входа на товарный рынок»).
3. Государство, осуществляя формирование и реализацию конкурентной (антимонопольной) политики, должно крайне осторожно относиться к ограничению свободы предпринимательской деятельности и соблюдать баланс между интересами предпринимателей и антимонопольным регулированием. Ограничение свободы предпринимательской деятельности субъекта рынка со стороны антимонопольного органа возможно лишь в случае обладания им самостоятельно или совместно с другими субъектами рынка значительной рыночной власти. В качестве признаков наличия значительной рыночной властью, т. е. доминирующего положения субъекта рынка на товарном рынке, в мире используется совокупность структурных (доли субъектов на рынке) и поведенческих (качественных характеристик рынка) факторов. В нашем же конкурентном законодательстве понятие доминирующего положения четко привязывается исключительно к долям на товарном рынке. В этой связи помимо количественного критерия (доли субъектов на товарном рынке), необходимо также учитывать качественные критерии (барьеры входа на рынок; неизменность и/или отсутствие значительных колебаний размеров долей субъектов на товарном рынке, размеры и рыночная сила конкурентов и т. д.).
4. Традиционное антимонопольное законодательство и законодательство о недобросовестной конкуренции имеют противоположные цели. В первом случае основной целью является защита конкуренции от ограничений ее со стороны субъектов рынка и государственных органов, в этой связи традиционно этим направлением занимается антимонопольный орган. Во втором случае целью является не защита конкуренции от ограничений ее со стороны других лиц, а, наоборот, чрезмерная конкуренция с использованием нечестных методов ведения конкурентной борьбы, в этой связи это направление в некоторых странах не относится к полномочиям органа по защите конкуренции. Законодательство о недобросовестной конкуренции в отличие от традиционного антимонопольного законодательства признает поведение субъектов рынка незаконными без учета характера действий в силу самого факта недобросовестности (неэтичности, аморальности) отдельных методов предпринимательской деятельности в целях получения незаслуженных преимуществ в конкурентной деятельности, т. е. речь идет не о защите конкуренции как таковой, а о предупреждении и пресечении недозволенных методов ведения предпринимательской деятельности. В связи с этим в будущем необходимо будет выделить регулирование недобросовестной конкуренции в отдельный законодательный акт.
5. Понятие «согласованные действия» подпадает под определение
гражданско-правового договора, поскольку согласованные действия являются
результатом согласования воли двух или более сторон, иначе такие действия
не назывались бы согласованными. П. 3 ст. 148
ГК РК устанавливает, что для совершения договора необходимо выражение
согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон
(многосторонняя сделка).
Совершение согласованных действий — это есть и факт, и следствие
совершения договора. Разница между антиконкурентным договором
и антиконкурентными согласованными действиями заключается только
в том, как оформлено волеизъявление сторон (письменным договором,
протоколом, встречными приказами, графиками, конклюдентными действиями и
т. д.). Таким образом, несмотря на то, что законодатель относит
антиконкурентные соглашения и антиконкурентные согласованные действия
к различным видам монополистической деятельности, представляется, что оба
они являются антиконкурентными договорами, а различие между ними
заключается лишь в том, выражены ли они явно или скрытно, т. е.
по форме их совершения. Определение места согласованных действий
в системе правовых институтов в качестве договора делает излишним
выделение отдельно антиконкурентных соглашений, заключенных в устной
форме, и антиконкурентных согласованных действий, также являющихся
соглашениями, заключенными в устной форме.
Правильное определение понятия антиконкурентного договора помимо приведения
к единой логике регулирование тождественных явлений также предоставляет
возможность четко разграничить правомерное несогласованное параллельное поведение
субъектов рынка от неправомерных антиконкурентных соглашений, заключенных
в устной форме, в том числе путем совершения конклюдентных действий.
Помимо этого правильно будет сохранить в Законе о конкуренции
положение, устанавливающее перечень фактических данных, которые могут
использоваться в качестве доказательств совершения антиконкурентных
соглашений в устной форме. Вместе с тем, положение в Законе
о конкуренции, устанавливающее презумпцию достаточности перечисленных
фактических данных, должно быть отменено.
6. Особенностью казахстанского антимонопольного законодательства является
то, что для состава правонарушения, предусмотренного ст. 10 Закона
о конкуренции, необходимо, чтобы заключение антиконкурентного договора
приводило или могло привести к ограничению конкуренции, а для
состава же правонарушения, предусмотренного ст. 11 Закона
о конкуренции, наличие такого условия не требуется,
и достаточным признается направленность действий субъектов рынка
на ограничение конкуренции. В первом случае состав правонарушения
является усеченным, т. е. составом конкретной опасности, поскольку для его
образования не обязательно наступления общественно-опасных и вредных
последствий в виде ограничения конкуренции, но необходимым условием
является наличие доказательств возникновения реальной угрозы наступления таких
последствий. Таким образом, правонарушение уже считается оконченным, содержащим
все признаки, предусмотренные законом, как только поведение виновного создаст
реальную угрозу причинения вреда охраняемым законом интересам, благам
и общественным отношениям. Во втором же случае состав
правонарушения является формальным, т. е. правонарушение считается
завершенным с момента, когда заключено соглашение, направленное
на ограничение конкуренции, без учета факта наступления отрицательного
воздействия на конкуренцию.
Учитывая тот факт, что различие между антиконкурентными соглашениями
и антиконкурентными согласованными действиями заключается лишь
в их форме, необходимо отменить такое дифференцированное
регулирование одного и того же вида правонарушения.
7. В законодательстве отсутствует понятие «ограничение конкуренции». По всей видимости, к нему должны быть отнесены действия, влекущие усиление рыночной власти одного или нескольких субъектов рынка. При этом, учитывая тот факт, что ограничение принципа свободы договора, являющегося одним из краеугольных основ рыночной экономики, само по себе является исключительной мерой, необходимо в качестве квалифицирующего признака антиконкурентных договоров, заключенных в любой форме, закрепить условие о наступлении или угрозы наступления ограничения конкуренции в значительной мере.
8. Согласно Закону о конкуренции субъектами рынка не будут
признаваться иностранные граждане; лица без гражданства; иностранные
коммерческие организации, не имеющие статуса юридических лиц,
в частности, партнерства, являющиеся одними из самых распространенных
форм организации бизнеса в мире; некоммерческие организации,
к примеру, отраслевые ассоциации предпринимателей, не осуществляющие
предпринимательскую деятельность, но, тем не менее, могущие проводить
координацию деятельности своих членов, в том числе направленную
на ограничение конкуренции в отрасли; адвокаты; нотариусы.
Ограничение действия Закона о конкуренции по лицам не отвечает
интересам ни потребителей, ни государства, ни самих этих
субъектов и их конкурентов. Проблема в данном случае заключается
не только в отсутствии оснований для привлечения указанных лиц
к ответственности за совершение нарушений норм законодательства
о конкуренции, но и в отсутствии для таких лиц
законодательной защиты от монополистических или недобросовестных действий
других участников рынка. В этой связи необходимо отменить ограничение
действия конкурентного законодательства по лицам.
9. Особым субъектом рынка согласно Закону о конкуренции признается специальная категория лиц, определяемая термином «группа лиц». При этом лица, входящие в одну группу лиц, рассматриваются как единый субъект рынка. Соответственно, антиконкурентные соглашения между такими лицами допускаются и не наказываются, а сделки по слиянию и поглощению внутри такой группы лиц не подлежат государственному антимонопольному контролю. Аналогичное положение содержится в конкурентном праве большинства стран мира и является справедливым, поскольку между дочерней и материнской компаниями сговора не может быть. Однако признание в качестве группы лиц совокупности физических и (или) юридических лиц, применительно к которым выполняется условие о том, что лицо имеет право прямо или косвенно (через третьих лиц) распоряжаться более чем 25 процентами голосующих акций (долей участия, паев) в уставном капитале юридического лица, является необоснованным, поскольку в реальности распоряжение неконтрольным пакетом акций или долей не дает, за редким исключением, контроля над другим субъектом.
10. Разграничение между вертикальным антиконкурентным соглашением
и злоупотреблением доминирующим положением образуют необходимо проводить
на основании следующего правила: в случаях, когда ограничение
конкуренции в договоре, заключенном с участием доминирующей компании,
является прямым следствием применения значительной рыночной власти, все-такие
вертикальные ограничения необходимо квалифицировать именно как злоупотребление
доминирующим положением, а в случаях, когда антиконкурентный договор
заключен без использования значительной рыночной силы, такое поведение
необходимо квалифицировать как заключение вертикального антиконкурентного
договора.
Вертикальные связи в большинстве своем являются разумными
и преследуют цель по достижению эффективности, т. е. могут
приносить значительные позитивные последствия для рынка, в том числе
способствовать снижению цен (к примеру, за счет приобретения
производителем оптового дистрибьютора), повышению качества товаров, работ
и услуг и т. д. В этой связи законы о конкуренции
в мире являются лояльными к вертикальным ограничениям
по сравнению с горизонтальными антиконкурентными соглашениями,
и они рассматриваются с учетом правила разумного подхода.
В соответствии же с Законом о конкуренции горизонтальные
(картельные), горизонтальные (некартельные) и вертикальные
антиконкурентные соглашения признаются незаконными в равной мере.
Очевидно, что такое положение требует корректировки с тем, чтобы
учитывался преимущественно положительный характер вертикальных ограничений
конкуренции по сравнению с горизонтальными соглашениями.
В этой же связи необходимо в Законе о конкуренции
установить четкие, логически обоснованные и адекватные критерии
допустимости антиконкурентных договоров (правило разумного подхода).
11. В оценке поведения субъектов рынка на предмет злоупотребления доминирующим положением должна обязательно использоваться концепция объективной правомерности (необходимости), которая широко используется Еврокомиссией и Европейским Судом Справедливости. Использование этой концепции позволяет разграничить поведение по злоупотреблению доминирующим положением от действий, объясняемых правомерными коммерческими причинами, т. е. позволяет учитывать объективные обстоятельства, которые могут оправдать поведение доминирующего субъекта рынка. В соответствии с концепцией объективной правомерности субъект рынка будет считаться применяющим недозволенные методы в конкурентной борьбе, т. е. злоупотребляющим своим положением, когда его поведение не имеет никакого экономического смысла и не увеличивает его собственную эффективность, а ведет лишь к ограничению или исключению конкуренции. Таким образом, если ограничение конкуренции в результате увеличения доли рынка занимаемой доминирующей компанией происходит за счет улучшения его деятельности, к примеру, за счет повышения качества товара, то такой результат не образовывает состав правонарушения.
12. Действующий Закон о конкуренции, так же, как и три
предшествовавших ему закона о конкуренции, принятые Республикой Казахстан,
содержит запрет на антиконкурентные действия государственных органов.
Однако, к сожалению, Закон о конкуренции в большинстве случаев
не препятствует практике предоставления государством монопольных
и других ограничивающих конкуренцию прав, поскольку Конституция
РК не содержит запрета любой деятельности (в том числе
государственной), направленной на ограничение или устранение законной
конкуренции, получение необоснованных преимуществ, ущемление прав
и законных интересов потребителей. Таким образом, не ограничивается
право государства на издание законов, на основании которых
предоставляются монопольные и эксклюзивные права и иным образом
ограничивается конкуренция на товарных рынках.
В результате вышеизложенного государство вправе принимать законодательные
акты, ограничивающие конкуренцию, в том числе, предоставляющие монопольные
права отдельным субъектам рынка. Для преодоления усеченного характера действия
норм о запрете антиконкурентных действий государственных органов
необходимо внести изменения и дополнения в Конституцию РК.
13. Признание в Законе о конкуренции соглашений субъектов рынка
с государственными органами в качестве антиконкурентных действий
последних является сомнительным.
Антиконкурентные соглашения государственного органа с субъектом рынка,
в котором государство действует в качестве носителя публичной власти,
являются вертикальными отношениями, в которых отсутствует равенство
сторон. В данном случае можно говорить лишь о наличии одностороннего
антиконкурентного действия государственного органа, которое лишь формально выражено
в меморандуме или соглашении с субъектом рынка. Несмотря на то,
что в содержании таких «договоров» может быть формально выражена воля всех
его сторон, такие документы являются односторонними действиями государственных
органов и не должны признаваться в качестве гражданско-правовых
договоров.
В свою очередь, к антиконкурентному соглашению государственного
органа с субъектом рынка, в котором государство действует наравне
с другими участниками гражданско-правовых отношений, относятся
те соглашения, которые действительно являются результатом свободного
волеизъявления не только государства, но и субъекта рынка.
В связи с тем, что согласно ст. 111 ГК РК государство
выступает в отношениях, регулируемых гражданским законодательством,
на равных началах с иными участниками этих отношений, такие
соглашения должны быть отнесены к составу правонарушения
по совершению антиконкурентных договоров, поскольку воля на нарушение
антимонопольного законодательства в данном случае является согласованной.
Это, помимо привлечения к справедливой ответственности субъектов рынка,
получающих выгоду от совершения антиконкурентного соглашения, будет
способствовать прекращению практики легализации противоправных
односторонне-властных действий государственных органов путем искусственного
придания им формы договора.
14. Согласно Закону о конкуренции недобросовестная конкуренция
определяется как любые действия в конкуренции, направленные
на достижение или предоставление неправомерных преимуществ, а также
нарушающие законные права потребителей. Для образования факта недобросовестной
конкуренции по Закону о конкуренции необходимо лишь, чтобы методы
ведения конкурентной борьбы вели к неправомерным преимуществам,
а также к нарушению законных прав потребителей. Понятие
«неправомерные преимущества» предполагает запрет на приобретение
преимуществ способами, которые прямо запрещены нормами права. Схожим образом
«нарушение законных прав потребителей» означает наличие факта нарушения прав,
которые нашли прямое законодательное закрепление.
Помимо этого, в Законе о конкуренции содержится закрытый перечень
из 12 действий субъектов рынка, законодательно признанных недобросовестной
конкуренцией. Данный узкий перечень не включает в себя некоторые
широко распространенные формы недобросовестной конкуренции. Таким образом, если
следовать положениям Закона о конкуренции, выходит, что другие несколько
сот форм недобросовестной конкуренции, прямо в казахстанском
законодательстве не указанные, но признаваемые в качестве
таковых во всем мире, не будут признаваться недобросовестной
конкуренцией.
Упущение нашего законодателя заключается в том, что в определении
недобросовестной конкуренции в Законе о конкуренции был исключен
ключевой признак, а именно, недобросовестность действий, выражающаяся
в нарушении требовании морали и нравственности, а также
установлен закрытый перечень форм недобросовестной конкуренции.
Формы недобросовестной конкуренции в жизни чрезвычайно разнообразны,
и поэтому невозможно четко установить какой-либо твердый перечень таких
правонарушений. При этом зачастую недобросовестной конкуренцией могут быть
признаны правонарушения, охватываемые иными отраслями законодательства.
Недобросовестной конкуренцией могут быть, в том числе, признаны некоторые
разновидности монополистической деятельности, к примеру, это касается
злоупотребления правом путем осуществления хищнического ценообразования.
В этой связи в законодательстве о недобросовестной конкуренции
невозможно и неправильно дублировать соответствующие положения других
законодательных актов. В этой связи в законодательстве
о конкуренции следует указывать лишь неисчерпывающий перечень основных
форм таких правонарушений.
Кроме того, закрытый перечень форм недобросовестной конкуренции, содержащийся
в Законе о конкуренции, не включает основные общепризнанные
формы недобросовестной конкуренции, а вместо этого составлен путем
произвольного смешивания элементов различных форм недобросовестной конкуренции,
в том числе за счет неразумного объединения общего с частным,
а также дублирования конкретных составов правонарушений, составление
протоколов об административных правонарушениях и рассмотрение дел,
по которым вообще неподведомственно антимонопольному органу. В свою
очередь содержание большинства указанных форм недобросовестной конкуренции значительно
шире их названия. Помимо этого, некоторые из перечисленных
в Законе о конкуренции форм недобросовестной конкуренции
в реальности являются добросовестной практикой и, соответственно, должны
быть исключены из этого перечня.
15. В конкурентном законодательстве значительную проблему образует
проблема соблюдения принципа справедливости юридической ответственности.
В первую очередь это связано с тем, что качестве цели норм
о запрете злоупотреблений доминирующим положением ошибочно указана защита
законных прав потребителей. В результате этого за совершение
злоупотребления доминирующим положением путем ущемления прав одного конечного
потребителя должны налагаться такие же санкции, как и при
злоупотреблении доминирующим положением путем значительного ограничения
конкуренции в целом по рынку. Как следствие этого, ущемление законных
прав одного конкретного конечного потребителя влечет такую же
ответственность, как и причинение вреда благосостоянию большого количества
потребителей. Непропорциональность наказания тяжести правонарушения очевидна,
если учитывать то, что за злоупотребление доминирующим положением вне
зависимости от размера вреда на практике применяются штрафы
в размере от 5 до 10 процентов от годового оборота
(выручки) субъекта рынка, что может составить астрономическую цифру.
Значительной проблемой в правоприменительной практике является попытка
признать монополистической деятельностью любую деятельность субъектов рынка и,
как следствие этого, попытка признать наличие в санкции ст. 147 КоАП
РК «оборотного» штрафа.
Еще одним проблемным вопросом санкций за осуществление монополистической
деятельности является отсутствие в КоАП РК ответственности
за координацию деятельности субъектов рынка со стороны третьего лица
(не являющегося участником рынка и не входящим в одну
группу лиц с существующими участниками рынка), которая влечет ограничение
конкуренции, т. е. такой же эффект, как и заключение
антиконкурентного соглашения самими участниками рынка. Очевидно,
в условиях доминирующего положения на многих рынках международных
компаний, непосредственно не присутствующих на территории Казахстана,
отсутствие санкции в данном случае нарушает принцип неотвратимости
наказания за совершенное правонарушение, и в этой связи
необходимо вносить изменения и дополнения в ст. 147 КоАП РК.